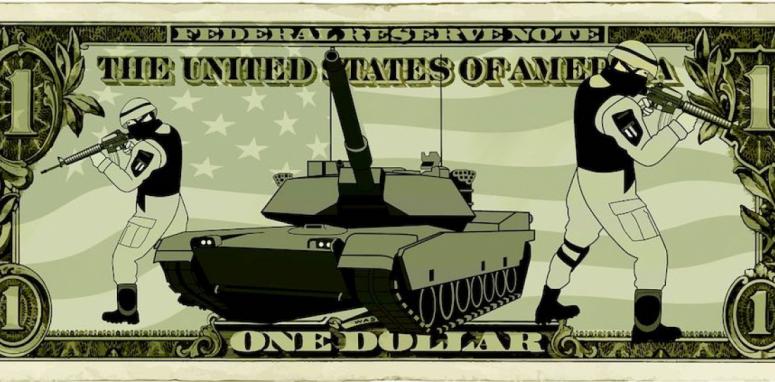/Поглед.инфо/ В съвременната геополитика и нейните военнополитически аспекти се закрепи тенденцията към преход от конвентивното състояние на зоните на конфликти към концепцията за непряка многостепенна асиметрия на театрите на военните действия
(ТВД), представляващи комплексно военно, икономическо и информационно въздействие както върху противника, така и върху средната съставляваща. При това основният комплекс от мерки се оказва върху икономическите, технологическите и демографските потенциали на държавите/блоковете, а военната съставляваща се формира имайки предвид повишаването на оперативната устойчивост и автономност в динамична оперативно-тактическа обстановка.
Глобализацията и информатизацията на технологична и елементарна основа на средствата за управление, поражение и бойни единици, се допълват от превантивно статистически анализ и изходна факторизация на аналитичната база, позволяваща да се излезе от проблематиката на фактическия контрол над териториите към установяване на контрол над “транзитните коридори” в субрегионалните зони (регионализация на света със създаване на териториални зони за отговорност) с общо отклонение от преките модели на силово съприкосновение (прокси-война) с увеличаване на невоенните съставляващи и броя на специалните операции.
На фона на това се закрепва понятието “хибридна война” или процес на хибридизация на конфликтнте зони, а териториалния контрол се заменя от многомерност и повишаване на общата синергетична устойчивост на съществуващите геополитически системи.
Главно ядро на развитието на подобни военно-политически търсения са САЩ и техните съюзници от НАТО. Това стана важно благодарение на пределната степен на концептуализация, характеризираща се с високо ниво на приемственост, на американската политическа сфера и на геополитиката. Наличието на различни институции и аналитични центрове, занимаващи се с разновекторен мониторинг на всички сфери на жизнена дейност чрез факторни системи на индекси в рамките на политическата компаративистика с висока степен на вероятност би позволило да се разчетат геополитическите потенциали. Но днес с подобно системно развитие на дадената сфера се занимават Китай, Руската федерация и Ислямска република Иран.
При това теоретичното планиране в рамките на “Концепцията за Глобално Доминиране” - концепцията за “Буферните зони”, “Технотронната ера”, “Изпреварващото сдържане: военнополитическо, икономическо, демографско”, “Съкращаване на ресурсните бази” и т.н. биха позволили да се открият основните фактори и съвременните предизвикателства. Предизвикателствата на свой ред получиха “отраслова” насоченост в рамките на НАТО и регионалните концептуални проекти, такива като “Големият Близък Изток” или “Програмата Голяма Централна Азия”.
Отделно положение заемат технологиите за контрол на политическите системи и смяната на режимите в съвкупност довеждащи до обща трансформация на трансграничните и/или субрегионалните образувания – казусът на “Цветните революции” и “Арабската пролет”.
(рус.ез.)
В современной геополитике и ее военно-политических аспектах закрепилась тенденция на переход от конвентивного состояния зон конфликтов к концепциям непрямой многоуровневой асимметрии театров военных действий (ТВД), представляющих комплексное военное, экономическое и информационное воздействие, как на противника, так и на средную составляющую. При этом основной комплекс мер оказывается на экономические, технологические, демографические потенциалы государств/блоков, а военная составляющая формируется с учетом повышения оперативной устойчивости и автономности в динамичной оперативно-тактической обстановке. Таким образом, закрепляется многомерный и многовекторный характеры современного вооруженного конфликта и его факторность.
Глобализация и информатизация технологической и элементной основ средств управления, поражения и боевых единиц, дополняются превентивным статистическим анализом и исходной факторизацией аналитической базы, позволяющей уйти от проблематики фактического контроля территорий к установлению контроля над «транзитными коридорами» в субрегиональных зонах (регионализация мира с созданием территориальных зон ответственности) с общим уклонением от прямых моделей силового соприкосновения (прокси-война) с увеличением невоенных составлявших и числа специальных операций.
На фоне этого закрепляется понятие «гибридной войны» или процесса «гибридизации» конфликтных зон, а территориальный контроль сменяется многомерностью и повышением общей синергетической устойчивости существующих геополитических систем.
Главным ядром развития подобных военно-политических изысканий являются США и их союзники по НАТО. Это стало возможным благодаря предельной степени концептуализации, характеризующейся высоким уровнем преемственности, американской внешнеполитической сферы и геополитики. Наличие же различных институтов и аналитических центров, занимающихся разновекторным мониторингом всех сфер жизнедеятельности через факторные системы индексов в рамках политической компаративистики с высокой долей вероятности позволило рассчитывать геополитические потенциалы. Однако сегодня подобным системным развитием данной сферы занимается Китай, Российская Федерация и Исламская Республика Иран.
При этом теоретическое планирование в раках «Концепции Глобального Доминирования» - концепций «Буферных зон», «Технотронной эры», «Упреждающего сдерживания: военно-политического, экономического, демографического», «Сокращающихся ресурсных баз» и т.д. позволили выявить основные факторы и современные вызовы. Вызовы, в свою очередь, приобрели «отраслевую» направленность в раках НАТО и региональных концептуальных проектов, таких как, «Большой Ближний Восток» или «Программа Большая Центральная Азия».
Отдельное положение занимают технологии контроля политических систем и смены режимов в совокупности приводящих к общей трансформации трансграничных и/или субрегиональных образований – казус «Цветных революций» и «Арабской весны».
Один из авторов концепции «Гибридизации ТВД» Фрэнк Г. Хоффман, старший научный сотрудник министерства обороны США, советник АНБ утверждает: «современные конфликты приобретают мультимодальные и факторные характеристики, а будущие угрозы могут в большей степени быть охарактеризованы как гибридное сочетание традиционных и нерегулярных тактик, это децентрализованное планирование и исполнение, участие негосударственных акторов с использованием одновременно простых и сложных технологий».
Из того, что понятие «гибридные угрозы» упоминается в Стратегии национальной обороны США и четырёхлетних обзорах начиная с 2006 года, одновременно с началом структурации Большого Ближнего Востока (сопровождающейся «пассивным вовлечением» Лиги Арабских государств) и в докладной записке на слушании Комитета штабов в июле 2017 года, а также из деятельности международных коалиций на Африканском континенте, Ближнем Востоке и Азии, можно сделать вывод, что страны-члены Североатлантического Альянса успешно внедрили «Концепцию гибридизации ТВД».
Де-факто, что подтверждается докладами Аналитической группы командования ССО США, мультимодальность характеризуется балансом «сдерживания/вовлечения». К механизмам сдерживания относятся: физическое устранение руководства; революции и государственные перевороты; продвижение различных программ по развитию демократии или поддержке оппозиции (критерий Липсета); демократическая смена власти; военный конфликт или спецоперации; региональная коалиция; прокси-война; дипломатические методы; экономические и другие санкции; «разведение сторон». «Вовлечение» формируют: содействие экономическому развитию страны; выгодное включение страны в международную торговлю; создание неинклюзивных торговых блоков; приведение к власти «агентов», встраивание в политическую систему НКО; включение страны в сеть международных организаций и договоров; развитие туризма, образовательных контактов и культурных связей.
В совокупности индикаторами применения «гибридных подходов» выступают: во-первых, состояние «Fallen state» (при наличие международного представительства, государства раздроблены, а территории контролируются полевыми командирами) или государства, обладающие «Пораженным суверенитетом» (экономические, технологические, демографические потенциалы зависят от «внешнего контроля»); во-вторых, наличие внутриэлитных вертикальных и горизонтальных конфликтов, противостояния «власть/общество». Дополнительным внешним критерием при наличии дипломатического процесса выступает наличие многосторонних или опосредованных переговоров (ограничен общий процесс принятия решений).
Сама технология сводится к комплексному воздействию на состояние политической системы через внутренних и внешних «агентов-раздражителей» или на средные составляющие (если объектом выступает регион или трансграничное образование), и созданию контрэлиты (созданная при посредничестве «внешнего заинтересанта» или образовавшаяся в рамка естественных процессов и получившая внешнюю поддержку) – фактор, приводящий к сдерживанию/устранению системы. В результате чего выстраиваются «Модели выхода Хофмана»: либо «Паритетный баланс» - сторона-объект воздействия вынуждена идти на уступки, под гарантией сохранения некой субъектной, либо «Конфликт малой интенсивности»…